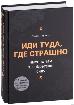Лариса Лапидус
профессор МГУ им. Ломоносова, д.э.н.
профессор МГУ им. Ломоносова, д.э.н.
Лариса Лапидус: побеждать будут те, кто быстрее других станет технологически зрелым
Время цифровой экономики, ИИ, высоких скоростей в бизнесе
Цифровизация охватила практически все сферы жизни современного человека, активно трансформируя их и формируя новые формы. В экономическом смысле эти процессы видоизменяют модели производства, распределения, обмена и потребления. О новой цифровой экономической реальности, её лидерах и дальнейших перспективах «Пульт управления» поговорил с Ларисой Лапидус, д.э.н., профессором экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директором Центра социально-экономических инноваций экономического факультета МГУ, научным руководителем Совместного научно-исследовательского
ЛУЧШЕ ОШИБАТЬСЯ И ИДТИ ВПЕРЁД, ЧЕМ БЕЗ ОШИБОК СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
– Лариса Владимировна, сформулировано ли на сегодня в экономической науке единое определение понятия «цифровая экономика»?
– Цифровая экономика зародилась в 1990 году благодаря кодам, которые сделали Интернет доступным для жителей нашей планеты. Это дало старт развитию электронного бизнеса и электронной коммерции. Новая среда оказалась очень сложной и динамичной для бизнеса. Более того, на каждом этапе развития цифровой экономики наблюдалось нарастание неопределённости, появление непредсказуемых аномалий, что усложняло управление бизнесом.
В настоящее время мы видим ситуацию, когда рецепты из книг не работают и могут привести к смещённым выводам и ошибочным решениям. Каждая компания, даже в одной и той же отрасли, проходит этот путь и опирается на компетенции руководителей, которые понимают, что бенчмарки дают информацию по отдельным кейсам, зачастую не являются сопоставимыми аналогами. Популярный ранее метод аналогов практически не работает.
Даже идеи гуру менеджмента Питера Друкера, которые никогда не устаревают и на которых выросло не одно поколение руководителей и учёных, кажутся замороженной глыбой во льдах новых вызовов современности!
Главное – формирование целостного взгляда на происходящие в цифровой экономике трансформационные процессы и явления со сложными причинно-следственными связями и корреляционными зависимостями. Цифровая экономика – это в первую очередь новая среда ведения бизнеса, изменения которой приводят к формированию новых вызовов. В то же время цифровая экономика – это система хозяйствования, она характеризуется всё большей диффузией цифровых технологий, технологий Индустрии 4.0 во все сферы жизни общества.
Период с 2025 по 2050 год станет наиболее сложным из-за усиления внимания к новым триггерам цифровой трансформации, связанным с переходом к интеллектуальной гиперсвязанности и Индустрии Х.0.
Бурное развитие новых рынков подключённых продуктов, метавселенных, безлюдных производств на основе облачной роботизации, а также разработки в области генеративного искусственного интеллекта – не полный перечень новых вызовов, которые компании-лидеры уже пристально изучают при разработке стратегий цифровой трансформации. По моему мнению, в цифровой экономике лучше ошибаться и идти вперёд, чем без ошибок стоять на месте. Те, кто стоит, всегда будут смотреть в спину всё дальше удаляющимся лидерам.
С конца прошлого века мы наблюдаем эволюцию технологий, которые легли в основу нового взаимодействия. Развиваются и рынки, которых прежде не было (не только электронных услуг и продуктов), наблюдается высокая подвижность рынков технологий, смежных, зависимых от Интернета и цифровой трансформации рынков, например облачных технологий, больших данных, интернет-провайдеров, умного дома, таргетинга, рекомендательных систем и многих других.
И если в целом смотреть на цифровую экономику, то, конечно, её ядром являются цифровые технологии. Именно они являются основным драйвером изменений и триггером цифровой трансформации.
28 июля 2017 года в нашей стране была утверждена Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», с тех пор не утихает научная полемика на этот счёт, в этом году мы получили новый всплеск интереса к экономике данных. В научной среде до сих пор можно даже встретить мнение, что цифровая экономика – удачный мем, а экономика данных – неудачный мем. Для практиков всё очевидно, главное, понимать смыслы, закладываемые в новые явления. Бизнес – самый быстрый в адаптации к изменениям, в этом его способность сохранять стратегическую устойчивость и наращивать конкурентоспособность.
Как раз в августе 2017 года я сдала рукописи монографии и учебника по цифровой экономике в издательство и после многочисленных вопросов о цифровой экономике взяла свою монографию, маркер и посчитала, сколько появилось новых терминов и аббревиатур. Так, по моим оценкам, процесс формирования цифровой экономики, технологический сдвиг и начало перехода к четвёртой промышленной революции за последние несколько десятилетий – уже к 2017 году – привели к появлению около 300 новых терминов и экономических категорий, более 100 новых аббревиатур, около 80 новых видов электронных услуг. Более 90 ранее известных научных теорий и экономических категорий получили новую интерпретацию и стали использоваться в новом контексте.
– Как соотносятся новые термины и понятия старой экономики?
– За новым видом электронных услуг стоит новый рынок, каждый из которых характеризуется специфическими особенностями развития и потребительскими паттернами. Всё это требует поиска новых подходов к определению границ рынков, зон государственного регулирования (особого режима налогообложения, принятия решений в области защиты данных, стандартов качества электронных услуг, защиты прав потребителей и др.). Уже на начало 2018 года Госдумой было инициировано более 70 законопроектов, направленных в первую очередь на регулирование финансовых рынков и проникновение онлайн-технологий, связанных с развитием цифровой экономики (краудфандинг, ICO, оборот криптовалют, использование блокчейн-технологий, разработку разных классов решений искусственного интеллекта и др.).
Россия по количеству генеративных моделей ИИ занимает 4-е место в мире, по совокупной мощности суперкомпьютеров входит в топ-10.
Как учёный и практик в бизнес-консультировании крупных компаний и цифровых платформ по корпоративным стратегиям, стратегиям цифровой трансформации, новым бизнес-моделям и KPI могу с уверенностью сказать, что какой термин мы бы ни использовали – «цифровая экономика», «умная», – важно смотреть на смыслы. Точнее, на те изменения, которые происходят.
Для бизнеса наиболее важно то, как трансформируются бизнес-модели, например, до 2013 года традиционные компании не обращали внимание на происходящие в Интернете изменения и не видели существенных вызовов со стороны интернет-компаний. Однако уже к 2015 году, например, железнодорожный бизнес по всему миру начал ставить в ряд стратегических KPI долю онлайн-продажи билетов. В этом плане железнодорожная отрасль была в числе локомотивов цифровой трансформации, а вместе с ней ЖКХ (умные датчики) и здравоохранение (электронно-медицинские книжки).
Компании поняли, что нужно формировать новое взаимодействие и соответствовать запросам потребителей. Помимо того что технологии проникли в бизнес-модели, начали формироваться новые рынки технологий, включая и рынки технологий искусственного интеллекта. На них вышли компании, в том числе крупные корпорации, быстрее других разрабатывающие передовые решения для собственных потребностей.
Ключевая задача цифровой трансформации – сохранить стратегическую устойчивость. Более амбициозная цель – нарастить конкурентоспособность в новых турбулентных условиях цифровой экономики. Поэтому если посмотреть на цифровую экономику, мы увидим очень сложную картину, динамичную и с высокой неопределённостью. Аналогов этой трансформации нет, и непросто научиться управлять всеми этими процессами, не имея достаточных знаний и инструментов.
И раз уж мы начали с определений, то хочу сразу отметить, что в науке и на практике цифровая трансформация и цифровизация – это разные категории. Цифровизация – это диффузия технологий в бизнес-процессы, а цифровая трансформация – это трансформация бизнес-моделей на основе новых технологических возможностей.

фото: Александр Саверкин/ ИД «Гудок»

Фото: Иван Шаповалов / пресс-служба ОАО «РЖД»
ПАНДЕМИЯ ПОДТОЛКНУЛА РЫНОК
– Бытует мнение, что пандемия COVID-19 стала драйвером для развития цифровизации и цифровой трансформации.
– Пандемия сыграла важнейшую роль в ускорении цифровой трансформации. Она показала, что компании, которые не успели до 2020 года сформировать цифровой бэкграунд, уже проигрывают. До пандемии ещё можно было просто наблюдать и даже спорить насчёт технологий. После – нет.
Лидеры рынка ещё до 2020 года осознали, что им нужно трансформироваться. Были компании, в основном традиционный бизнес, которые просто наблюдали. Но если наблюдать за этими процессами, то нужно чётко осознавать, какие стоят за новыми процессами вызовы, возможности, угрозы... Это не просто сели и ждём, что произойдёт. Нужно постоянно анализировать, как трансформация может повлиять на компанию, какие плюсы и минусы, где есть угрозы и т.д. Поэтому для компаний, особенно для традиционного бизнеса, до 2020 года не была столь очевидна угроза потери рынка. В этом вопросе было много мифов из серии: «Нужно было уже бежать, а вы всё ещё стоите». То есть всегда было понятно, что здесь большую роль будет играть отраслевая специфика. Сегодня мы видим, что технологические рынки формируются больше в отраслевом разрезе. В период технологического сдвига становится очевидным, что страны должны ставить в приоритет задачу выиграть конкуренцию за новые рынки.
В этом плане цифровая экономика как среда ведения бизнеса ещё более усложнилась, поскольку когда к вопросам подключается государство как ключевой стейкхолдер, то утверждаются национальные программы, стратегии, выделяются государственные бюджеты на их реализацию. Например, в 2019 году в России была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В 2023 году прошла её актуализация. В первую очередь она направлена на то, чтобы повысить конкурентоспособность, качество жизни населения и самое главное – усилить национальную безопасность и технологический суверенитет нашей страны.
К 2020 году стало очевидно, что интернет-компании, которые ранее традиционные компании не рассматривали в качестве конкурентов, станут очень мощными центрами технологий и компетенций. Самые крупные из них к этому времени уже построили экосистемы с мощным технологическим ядром и энейблерами, нарастили компетенции в управлении сложными платформенными нелинейными бизнес-моделями с переходом к результативным цифровым экосистемам. Главное – они понимали, как трансформируются бизнес-модели традиционных компаний, особенно при управлении проектным портфелем на основе ИИ и построении ими экосистем.
Разработка и реализация ИИ-проектов, управление на основе данных с повышением ликвидности данных – всё это стало совершенно новой областью знаний и новой компетенцией современных компаний.
И уже к 2020 году в ответ на вызовы цифровой экономики мы увидели, что традиционные компании-лидеры тоже подошли с бэкграундом, каждый на своём уровне. Здесь, забегая вперёд, могу сказать, что РЖД подошли к 2020 году с высоким уровнем цифровой зрелости и мощной технологической готовностью к изменениям. Более того, по системной цифровой трансформации они опередили все мировые компании железнодорожного транспорта. В 2017 году ими была утверждена «Цифровая железная дорога», а уже в 2019-м в корпорации в числе первых была принята Стратегия цифровой трансформации и реализовано множество проектов с опорой на высокую технологическую готовность самой корпорации, которая накапливалась на протяжении десятилетий. Потому что РЖД – это в первую очередь технологическая компания.
В настоящее время в крупнейшей корпорации России накоплены компетенции по управлению технологическим развитием и выходом на новые рынки. Стоит отметить, что наиболее популярными технологиями искусственного интеллекта в РЖД являются свёрточные нейронные сети, большие языковые модели, классические методы машинного обучения, методы нечёткой логики, методы дерева решений, диффузионные модели генерации изображений и видео, эволюционные алгоритмы. В цифровой трансформации задействованы более 30 тыс. сотрудников компании.
Я работаю в разных отраслях, в моём портфеле их девять, в текущем году – пять, могу сказать, что в настоящее время все отрасли трансформируются и будут трансформироваться в ускоренном режиме. Это значит, что нужно рассматривать цифровую трансформацию в первую очередь как мощный драйвер конкурентоспособности. Без системной цифровой трансформации в новых условиях выиграть невозможно! Это даже вопрос больше про выживаемость в целом, а не только лидерства.
– Складывается впечатление, что компании начинают трансформироваться преимущественно под воздействием триггеров. У кого были нужные наработки, те вырываются вперёд. А кто вообще этим не занимался, те просто не выживают. Как в такой ситуации своевременно определить уровень цифровизации целой отрасли и отдельной компании?
– Это правильное наблюдение. Знаете почему? Раньше бизнес развивался по принципу «кто первый пойдёт по новому пути, пусть все шишки набьёт, а второй, кто пойдёт за ним, может даже обойти первого». То есть можно скопировать путь первой компании, обойти эти проблемы и, собственно, так, с меньшими ресурсами достичь лидерских позиций.
Но с цифровой экономикой такого не происходит. Почему? Потому что природа самих цифровых технологий совершенно иная. И здесь, казалось бы, их легче скопировать, но это сделать практически невозможно. То есть мы не можем взять сервисное решение банка и пересадить его в другой банк. Оно не будет работать. Потому что это решение нужно полностью подстраивать под бизнес-процессы этого банка, под клиента с его особенностями, то есть с учётом многочисленных переменных, состояние которых ещё нужно уметь оценивать.
Поэтому на то, чтобы запустить и уже нарастить зрелость цифровых решений, как и несколько лет назад, уходит минимум три-четыре года. И не преодолев все трудности и не переболев всеми «детскими болезнями», невозможно пройти этот путь.
Кстати, когда одна компания внедряет, а вторая наблюдает, тоже имеет место на практике. Но далее нужно понимать, что это отставание в четыре года для преодоления трудностей. В это время первая компания быстрее достигает более высокой цифровой зрелости и технологической готовности, при грамотном управлении цифровой трансформации она более уверенно смотрит в будущее. Это же не просто компетенции в области управления процессом. Это вопрос управления сложным технологическим портфелем и энейблерами, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.
Например, до 2023 года в портфеле РЖД было 55 проектов. В новой актуализированной стратегии их 57 и 9 дополнительных инициатив. Даже одно только управление этими проектами – это тоже новые компетенции, которые нельзя купить на рынке. Управлять крупными инфраструктурными проектами, например, как РЖД управляют инфраструктурными проектами в области квантовых коммуникаций, стало возможно благодаря сильной управленческой команде корпорации. Побеждать будут те, кто станет не просто более технологически зрелым, а те, кто быстрее других станет технологически зрелыми.
– Какие компании в России можно назвать цифровыми лидерами?
– Я бы разделила все компании-лидеры на две категории. Первая – это интернет-компании. То есть те, что выросли в Интернете и стали технологическими гигантами: «Яндекс», «Озон» и «ВК-Групп». Они выстроили свои экосистемы уже в 2020 году и сейчас продолжают развиваться. Например, у «Озона» уже есть Озонбанк. Я считаю, это компании – лидеры по управлению трансформацией в цифровой экономике и по достижению лидерства на новых рынках.
Также эти компании владеют технологиями. Это значит, что они эти технологии разрабатывали для собственных нужд и способны выводить их на рынок. Они сотрудничают с другими корпорациями, чтобы предлагать партнёрство на основе этих технологий или компетенций, например управление цифровыми платформами.
Вторая категория – это традиционные компании, которые, трансформируясь, стали тоже лидерами цифровой трансформации. И здесь из традиционных компаний можно выделить «Сбер». Потому что он является сегодня центром НТИ по искусственному интеллекту. Но на первое место среди традиционных компаний я бы поставила «Российские железные дороги». Потому что РЖД – это уникальный случай, когда такая крупнейшая российская корпорация смогла достичь лидерства в цифровой трансформации за короткий промежуток времени.
Ещё я могу назвать «Росатом», «Сибур» и X5 Retail, которые также являются лидерами по цифровой трансформации. При этом есть компании, которые достигли первенства только по ликвидности больших данных. Это отдельная ключевая тема и драйвер конкурентоспособности. Например, РЖД могут управлять данными о перевозочном процессе и контролировать состояние инфраструктуры. В своё время выделяла «Аэрофлот» как лидера по ликвидности больших данных за счёт их программы лояльности. Из сферы финансовых услуг – это также могут быть компании, которые научились извлекать выгоды из данных при разработке новых банковских продуктов.
Можно сказать, что традиционные компании прошли этот путь за пять – восемь лет.
У нас не так много компаний по системной цифровой информации. По отдельным каким-то решениям ещё можно назвать разные компании. Но что касается стратегии цифровой трансформации с позиции системного (экосистемного) подхода, то здесь для нас ключевое – транспорт, логистика, банки, финансовые услуги, добывающая промышленность и нефтегаз.
– Новый и очень серьёзный триггер заставил Россию заняться обеспечением технологического суверенитета. Как вы оцениваете перспективы достижения поставленных задач на этом направлении?
– Многим компаниям уже с 2014 года было очевидно, что нужно делать ставку на собственные решения. И, конечно, последние события показали, что необходимо ещё больше идти в эту сторону. Вектор развития нашей страны очень правильно показал, что нужно опираться на свои технологические разработки.
В 2018 году я была на Форуме технологий будущего в Берлине. Это была бизнес-школа ЕSMT, одна из лидирующих бизнес-школ Европы, и я была поражена, когда выступал генеральный директор корпорации Airbus. Он призывал германское бизнес-сообщество обратить внимание на то, какими технологиями они пользуются. В Airbus попытались оценить, при помощи каких технологий летают их самолёты, и были поражены результатам: более 70% – то, чем они фактически не управляют.
Когда мир встречался и говорил, что нужны единые протоколы, глобализация и обмен технологиями, мне стало ещё более очевидно, что страны обсуждают вопрос рисков. И либо нужно тормозить, либо делать что-то новое, но пытаться сохранить технологический суверенитет. То, что мы ушли в импортозамещение, было очень правильно. Во-первых, это развитие нашей экономики. Во-вторых, её ядро, ведь на ближайшее десятилетие нам невозможно быть зависимым от кого-либо. Драйвер экономического развития – это всегда то, что должно быть всё-таки своим.
Вряд ли раньше можно было достигнуть 100-процентного технологического суверенитета. При таком разнообразии технологий дойти до определённого уровня мировых компаний-лидеров, наверное, – задача из области фантастики. Но приближаться к этому было нужно. Поэтому у нас было прописано, что технологический суверенитет является одной из задач развития экосистемы цифровой экономики Российской Федерации. За последние годы это приобрело уже особый характер и статус национального приоритета. Цифровая трансформация и технологический суверенитет – ключевые национальные идеи и векторы развития. Например, в РЖД решают задачу по развитию российского общесистемного программного обеспечения: национальной ERP-системы корпоративного уровня, интегрированного решения для «офисных» сервисов, происходит замещение зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения по управлению инфраструктурой, для моделирования и прогнозирования пассажиропотоков, управления пассажирским комплексом АСУ «Экспресс» нового поколения и др.
Мы в этом плане совершенствуемся. Опираемся на наши научные и инженерные школы, на компетенции. Показательно, что в стране сейчас технологии развиваются быстрее, чем можно было ожидать. Есть определённые трудности в преодолении разрывов, например тех барьеров, которые тормозят этот процесс. Но в целом это правильные вектор и задачи. Я уверена, что все страны пойдут по этому пути, и чем раньше, тем для них лучше.
– А может цифровизация затормозиться из-за человеческого фактора?
– Это правильная мысль, потому что для любой компании это большой риск. Кто-то из сотрудников может что-то недопонять, и это вызовет конфронтацию. Собственно, это классика инновационного менеджмента: когда человек недопонимает, он находится в состоянии неопределённости. Природа человека такова, что он боится неопределённости. И, как правило, если человек этого боится, то входит в конфронтацию с инновациями и технологиями. В этом вопросе поможет только обучение. Часто бывает, что компания быстро трансформируется и не успевает с обучением своих сотрудников. И как раз в последние годы массово встал вопрос, как правильно обучать.
Во-первых, повышать цифровую грамотность и понимание процессов, происходящих в самой корпорации. Во-вторых, сотрудники должны чувствовать, какие изменения могут прийти в их область. Крупные корпорации, как РЖД, «Газпромнефть» и Uber сами создают контент, чтобы их сотрудники могли учиться. Причём этот процесс должен идти непрерывно. Во многих корпорациях, с которыми я работаю, сотрудники параллельно с работой самостоятельно изучают технологии ИИ, цифровизацию и цифровую трансформацию.
– Как вы оцениваете уровень развития цифровых технологий в отрасли железнодорожного транспорта в России?
– По уровню цифровой зрелости РЖД – глобальный лидер. Технологическое ядро бизнес-экосистемы компании формируется на основе разработок в области искусственного интеллекта. Портфель проектов, как я уже говорила, включает более 55 проектов, многие из которых являются настоящим прорывом для нашей страны. Проекты по беспилотному вождению поездов «Ласточка», цифровой двойник инфраструктуры МЦК, сеть квантовых коммуникаций – не полный перечень разработок, обеспечивающих России технологическое лидерство. Приоритетными цифровыми технологиями являются Интернет вещей (IoT), интеллектуальные системы (AI / ML), виртуальная и дополненная реальность (AR / VR), большие данные (Big Data), распределённые реестры (Blockchain), новые технологии передачи данных. Искусственный интеллект применяют в управлении перевозками, эксплуатации и обслуживании подвижного состава и инфраструктуры, в управлении персоналом и охране труда.
Компания идёт правильно, разрабатывая технологии будущего и строя свою метавселенную, чтобы взаимодействовать с пассажирами. А вторая область – это надёжность. Именно она определяет, как работает система управления инфраструктурой или подвижным составом. Мы видим, что квантовая коммуникация – это технологический прорыв для всей нашей страны. И РЖД уже стали лидером на рынке квантовых коммуникаций.
– Каким вам видится будущее цифровой экономики России?
– Приоритетным направлением развития для нашей страны мне видится экономика данных. Данные становятся стратегическим ресурсом. Почему? Потому что они – топливо для искусственного интеллекта, на базе которого идёт активное развитие ключевых технологий. На сегодняшний день Россия входит в четвёрку стран, которые имеют свой генеративный искусственный интеллект. Практически за всеми решениями стоит управление данными. Поэтому это ключевой фокус для нашей страны.
Также большую роль будут играть отраслевые решения на основе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это драйвер компетенций и способностей. Каждой компании придётся наращивать компетенции в области управления такими разработками.
Искусственный интеллект уже может разрабатывать программный код – это сократит время на разработку моделей искусственного интеллекта. Совсем недавно «Сбер» сообщил, что у них ИИ разрабатывает программный код. Это пока ещё не столь очевидно для нас, к этому надо готовиться. Но это наше будущее.
Беседовала Дарья Чикиркина

фото: Сергей Гусев/пресс-служба ОАО «РЖД»
фото: 123rf/legion-media
института цифровой экономики и прикладного искусственного интеллекта Цзянсийского финансово-экономического университета и МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущим экспертом и бизнес-консультантом по корпоративным стратегиям, стратегиям цифровой трансформации, автором первого в России учебника по цифровой экономике.ЛУЧШЕ ОШИБАТЬСЯ И ИДТИ ВПЕРЁД, ЧЕМ БЕЗ ОШИБОК СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
– Лариса Владимировна, сформулировано ли на сегодня в экономической науке единое определение понятия «цифровая экономика»?
– Цифровая экономика зародилась в 1990 году благодаря кодам, которые сделали Интернет доступным для жителей нашей планеты. Это дало старт развитию электронного бизнеса и электронной коммерции. Новая среда оказалась очень сложной и динамичной для бизнеса. Более того, на каждом этапе развития цифровой экономики наблюдалось нарастание неопределённости, появление непредсказуемых аномалий, что усложняло управление бизнесом.
В настоящее время мы видим ситуацию, когда рецепты из книг не работают и могут привести к смещённым выводам и ошибочным решениям. Каждая компания, даже в одной и той же отрасли, проходит этот путь и опирается на компетенции руководителей, которые понимают, что бенчмарки дают информацию по отдельным кейсам, зачастую не являются сопоставимыми аналогами. Популярный ранее метод аналогов практически не работает.
Даже идеи гуру менеджмента Питера Друкера, которые никогда не устаревают и на которых выросло не одно поколение руководителей и учёных, кажутся замороженной глыбой во льдах новых вызовов современности!
Главное – формирование целостного взгляда на происходящие в цифровой экономике трансформационные процессы и явления со сложными причинно-следственными связями и корреляционными зависимостями. Цифровая экономика – это в первую очередь новая среда ведения бизнеса, изменения которой приводят к формированию новых вызовов. В то же время цифровая экономика – это система хозяйствования, она характеризуется всё большей диффузией цифровых технологий, технологий Индустрии 4.0 во все сферы жизни общества.
Период с 2025 по 2050 год станет наиболее сложным из-за усиления внимания к новым триггерам цифровой трансформации, связанным с переходом к интеллектуальной гиперсвязанности и Индустрии Х.0.
Бурное развитие новых рынков подключённых продуктов, метавселенных, безлюдных производств на основе облачной роботизации, а также разработки в области генеративного искусственного интеллекта – не полный перечень новых вызовов, которые компании-лидеры уже пристально изучают при разработке стратегий цифровой трансформации. По моему мнению, в цифровой экономике лучше ошибаться и идти вперёд, чем без ошибок стоять на месте. Те, кто стоит, всегда будут смотреть в спину всё дальше удаляющимся лидерам.
С конца прошлого века мы наблюдаем эволюцию технологий, которые легли в основу нового взаимодействия. Развиваются и рынки, которых прежде не было (не только электронных услуг и продуктов), наблюдается высокая подвижность рынков технологий, смежных, зависимых от Интернета и цифровой трансформации рынков, например облачных технологий, больших данных, интернет-провайдеров, умного дома, таргетинга, рекомендательных систем и многих других.
И если в целом смотреть на цифровую экономику, то, конечно, её ядром являются цифровые технологии. Именно они являются основным драйвером изменений и триггером цифровой трансформации.
28 июля 2017 года в нашей стране была утверждена Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», с тех пор не утихает научная полемика на этот счёт, в этом году мы получили новый всплеск интереса к экономике данных. В научной среде до сих пор можно даже встретить мнение, что цифровая экономика – удачный мем, а экономика данных – неудачный мем. Для практиков всё очевидно, главное, понимать смыслы, закладываемые в новые явления. Бизнес – самый быстрый в адаптации к изменениям, в этом его способность сохранять стратегическую устойчивость и наращивать конкурентоспособность.
Как раз в августе 2017 года я сдала рукописи монографии и учебника по цифровой экономике в издательство и после многочисленных вопросов о цифровой экономике взяла свою монографию, маркер и посчитала, сколько появилось новых терминов и аббревиатур. Так, по моим оценкам, процесс формирования цифровой экономики, технологический сдвиг и начало перехода к четвёртой промышленной революции за последние несколько десятилетий – уже к 2017 году – привели к появлению около 300 новых терминов и экономических категорий, более 100 новых аббревиатур, около 80 новых видов электронных услуг. Более 90 ранее известных научных теорий и экономических категорий получили новую интерпретацию и стали использоваться в новом контексте.
– Как соотносятся новые термины и понятия старой экономики?
– За новым видом электронных услуг стоит новый рынок, каждый из которых характеризуется специфическими особенностями развития и потребительскими паттернами. Всё это требует поиска новых подходов к определению границ рынков, зон государственного регулирования (особого режима налогообложения, принятия решений в области защиты данных, стандартов качества электронных услуг, защиты прав потребителей и др.). Уже на начало 2018 года Госдумой было инициировано более 70 законопроектов, направленных в первую очередь на регулирование финансовых рынков и проникновение онлайн-технологий, связанных с развитием цифровой экономики (краудфандинг, ICO, оборот криптовалют, использование блокчейн-технологий, разработку разных классов решений искусственного интеллекта и др.).
Россия по количеству генеративных моделей ИИ занимает 4-е место в мире, по совокупной мощности суперкомпьютеров входит в топ-10.
Как учёный и практик в бизнес-консультировании крупных компаний и цифровых платформ по корпоративным стратегиям, стратегиям цифровой трансформации, новым бизнес-моделям и KPI могу с уверенностью сказать, что какой термин мы бы ни использовали – «цифровая экономика», «умная», – важно смотреть на смыслы. Точнее, на те изменения, которые происходят.
Для бизнеса наиболее важно то, как трансформируются бизнес-модели, например, до 2013 года традиционные компании не обращали внимание на происходящие в Интернете изменения и не видели существенных вызовов со стороны интернет-компаний. Однако уже к 2015 году, например, железнодорожный бизнес по всему миру начал ставить в ряд стратегических KPI долю онлайн-продажи билетов. В этом плане железнодорожная отрасль была в числе локомотивов цифровой трансформации, а вместе с ней ЖКХ (умные датчики) и здравоохранение (электронно-медицинские книжки).
Компании поняли, что нужно формировать новое взаимодействие и соответствовать запросам потребителей. Помимо того что технологии проникли в бизнес-модели, начали формироваться новые рынки технологий, включая и рынки технологий искусственного интеллекта. На них вышли компании, в том числе крупные корпорации, быстрее других разрабатывающие передовые решения для собственных потребностей.
Ключевая задача цифровой трансформации – сохранить стратегическую устойчивость. Более амбициозная цель – нарастить конкурентоспособность в новых турбулентных условиях цифровой экономики. Поэтому если посмотреть на цифровую экономику, мы увидим очень сложную картину, динамичную и с высокой неопределённостью. Аналогов этой трансформации нет, и непросто научиться управлять всеми этими процессами, не имея достаточных знаний и инструментов.
И раз уж мы начали с определений, то хочу сразу отметить, что в науке и на практике цифровая трансформация и цифровизация – это разные категории. Цифровизация – это диффузия технологий в бизнес-процессы, а цифровая трансформация – это трансформация бизнес-моделей на основе новых технологических возможностей.

фото: Александр Саверкин/ ИД «Гудок»

Фото: Иван Шаповалов / пресс-служба ОАО «РЖД»
– Бытует мнение, что пандемия COVID-19 стала драйвером для развития цифровизации и цифровой трансформации.
– Пандемия сыграла важнейшую роль в ускорении цифровой трансформации. Она показала, что компании, которые не успели до 2020 года сформировать цифровой бэкграунд, уже проигрывают. До пандемии ещё можно было просто наблюдать и даже спорить насчёт технологий. После – нет.
Лидеры рынка ещё до 2020 года осознали, что им нужно трансформироваться. Были компании, в основном традиционный бизнес, которые просто наблюдали. Но если наблюдать за этими процессами, то нужно чётко осознавать, какие стоят за новыми процессами вызовы, возможности, угрозы... Это не просто сели и ждём, что произойдёт. Нужно постоянно анализировать, как трансформация может повлиять на компанию, какие плюсы и минусы, где есть угрозы и т.д. Поэтому для компаний, особенно для традиционного бизнеса, до 2020 года не была столь очевидна угроза потери рынка. В этом вопросе было много мифов из серии: «Нужно было уже бежать, а вы всё ещё стоите». То есть всегда было понятно, что здесь большую роль будет играть отраслевая специфика. Сегодня мы видим, что технологические рынки формируются больше в отраслевом разрезе. В период технологического сдвига становится очевидным, что страны должны ставить в приоритет задачу выиграть конкуренцию за новые рынки.
В этом плане цифровая экономика как среда ведения бизнеса ещё более усложнилась, поскольку когда к вопросам подключается государство как ключевой стейкхолдер, то утверждаются национальные программы, стратегии, выделяются государственные бюджеты на их реализацию. Например, в 2019 году в России была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В 2023 году прошла её актуализация. В первую очередь она направлена на то, чтобы повысить конкурентоспособность, качество жизни населения и самое главное – усилить национальную безопасность и технологический суверенитет нашей страны.
К 2020 году стало очевидно, что интернет-компании, которые ранее традиционные компании не рассматривали в качестве конкурентов, станут очень мощными центрами технологий и компетенций. Самые крупные из них к этому времени уже построили экосистемы с мощным технологическим ядром и энейблерами, нарастили компетенции в управлении сложными платформенными нелинейными бизнес-моделями с переходом к результативным цифровым экосистемам. Главное – они понимали, как трансформируются бизнес-модели традиционных компаний, особенно при управлении проектным портфелем на основе ИИ и построении ими экосистем.
Разработка и реализация ИИ-проектов, управление на основе данных с повышением ликвидности данных – всё это стало совершенно новой областью знаний и новой компетенцией современных компаний.
И уже к 2020 году в ответ на вызовы цифровой экономики мы увидели, что традиционные компании-лидеры тоже подошли с бэкграундом, каждый на своём уровне. Здесь, забегая вперёд, могу сказать, что РЖД подошли к 2020 году с высоким уровнем цифровой зрелости и мощной технологической готовностью к изменениям. Более того, по системной цифровой трансформации они опередили все мировые компании железнодорожного транспорта. В 2017 году ими была утверждена «Цифровая железная дорога», а уже в 2019-м в корпорации в числе первых была принята Стратегия цифровой трансформации и реализовано множество проектов с опорой на высокую технологическую готовность самой корпорации, которая накапливалась на протяжении десятилетий. Потому что РЖД – это в первую очередь технологическая компания.
В настоящее время в крупнейшей корпорации России накоплены компетенции по управлению технологическим развитием и выходом на новые рынки. Стоит отметить, что наиболее популярными технологиями искусственного интеллекта в РЖД являются свёрточные нейронные сети, большие языковые модели, классические методы машинного обучения, методы нечёткой логики, методы дерева решений, диффузионные модели генерации изображений и видео, эволюционные алгоритмы. В цифровой трансформации задействованы более 30 тыс. сотрудников компании.
Я работаю в разных отраслях, в моём портфеле их девять, в текущем году – пять, могу сказать, что в настоящее время все отрасли трансформируются и будут трансформироваться в ускоренном режиме. Это значит, что нужно рассматривать цифровую трансформацию в первую очередь как мощный драйвер конкурентоспособности. Без системной цифровой трансформации в новых условиях выиграть невозможно! Это даже вопрос больше про выживаемость в целом, а не только лидерства.
– Складывается впечатление, что компании начинают трансформироваться преимущественно под воздействием триггеров. У кого были нужные наработки, те вырываются вперёд. А кто вообще этим не занимался, те просто не выживают. Как в такой ситуации своевременно определить уровень цифровизации целой отрасли и отдельной компании?
– Это правильное наблюдение. Знаете почему? Раньше бизнес развивался по принципу «кто первый пойдёт по новому пути, пусть все шишки набьёт, а второй, кто пойдёт за ним, может даже обойти первого». То есть можно скопировать путь первой компании, обойти эти проблемы и, собственно, так, с меньшими ресурсами достичь лидерских позиций.
Но с цифровой экономикой такого не происходит. Почему? Потому что природа самих цифровых технологий совершенно иная. И здесь, казалось бы, их легче скопировать, но это сделать практически невозможно. То есть мы не можем взять сервисное решение банка и пересадить его в другой банк. Оно не будет работать. Потому что это решение нужно полностью подстраивать под бизнес-процессы этого банка, под клиента с его особенностями, то есть с учётом многочисленных переменных, состояние которых ещё нужно уметь оценивать.
Поэтому на то, чтобы запустить и уже нарастить зрелость цифровых решений, как и несколько лет назад, уходит минимум три-четыре года. И не преодолев все трудности и не переболев всеми «детскими болезнями», невозможно пройти этот путь.
Кстати, когда одна компания внедряет, а вторая наблюдает, тоже имеет место на практике. Но далее нужно понимать, что это отставание в четыре года для преодоления трудностей. В это время первая компания быстрее достигает более высокой цифровой зрелости и технологической готовности, при грамотном управлении цифровой трансформации она более уверенно смотрит в будущее. Это же не просто компетенции в области управления процессом. Это вопрос управления сложным технологическим портфелем и энейблерами, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.
Например, до 2023 года в портфеле РЖД было 55 проектов. В новой актуализированной стратегии их 57 и 9 дополнительных инициатив. Даже одно только управление этими проектами – это тоже новые компетенции, которые нельзя купить на рынке. Управлять крупными инфраструктурными проектами, например, как РЖД управляют инфраструктурными проектами в области квантовых коммуникаций, стало возможно благодаря сильной управленческой команде корпорации. Побеждать будут те, кто станет не просто более технологически зрелым, а те, кто быстрее других станет технологически зрелыми.
– Какие компании в России можно назвать цифровыми лидерами?
– Я бы разделила все компании-лидеры на две категории. Первая – это интернет-компании. То есть те, что выросли в Интернете и стали технологическими гигантами: «Яндекс», «Озон» и «ВК-Групп». Они выстроили свои экосистемы уже в 2020 году и сейчас продолжают развиваться. Например, у «Озона» уже есть Озонбанк. Я считаю, это компании – лидеры по управлению трансформацией в цифровой экономике и по достижению лидерства на новых рынках.
Также эти компании владеют технологиями. Это значит, что они эти технологии разрабатывали для собственных нужд и способны выводить их на рынок. Они сотрудничают с другими корпорациями, чтобы предлагать партнёрство на основе этих технологий или компетенций, например управление цифровыми платформами.
Вторая категория – это традиционные компании, которые, трансформируясь, стали тоже лидерами цифровой трансформации. И здесь из традиционных компаний можно выделить «Сбер». Потому что он является сегодня центром НТИ по искусственному интеллекту. Но на первое место среди традиционных компаний я бы поставила «Российские железные дороги». Потому что РЖД – это уникальный случай, когда такая крупнейшая российская корпорация смогла достичь лидерства в цифровой трансформации за короткий промежуток времени.
Ещё я могу назвать «Росатом», «Сибур» и X5 Retail, которые также являются лидерами по цифровой трансформации. При этом есть компании, которые достигли первенства только по ликвидности больших данных. Это отдельная ключевая тема и драйвер конкурентоспособности. Например, РЖД могут управлять данными о перевозочном процессе и контролировать состояние инфраструктуры. В своё время выделяла «Аэрофлот» как лидера по ликвидности больших данных за счёт их программы лояльности. Из сферы финансовых услуг – это также могут быть компании, которые научились извлекать выгоды из данных при разработке новых банковских продуктов.
Можно сказать, что традиционные компании прошли этот путь за пять – восемь лет.
У нас не так много компаний по системной цифровой информации. По отдельным каким-то решениям ещё можно назвать разные компании. Но что касается стратегии цифровой трансформации с позиции системного (экосистемного) подхода, то здесь для нас ключевое – транспорт, логистика, банки, финансовые услуги, добывающая промышленность и нефтегаз.
– Новый и очень серьёзный триггер заставил Россию заняться обеспечением технологического суверенитета. Как вы оцениваете перспективы достижения поставленных задач на этом направлении?
– Многим компаниям уже с 2014 года было очевидно, что нужно делать ставку на собственные решения. И, конечно, последние события показали, что необходимо ещё больше идти в эту сторону. Вектор развития нашей страны очень правильно показал, что нужно опираться на свои технологические разработки.
В 2018 году я была на Форуме технологий будущего в Берлине. Это была бизнес-школа ЕSMT, одна из лидирующих бизнес-школ Европы, и я была поражена, когда выступал генеральный директор корпорации Airbus. Он призывал германское бизнес-сообщество обратить внимание на то, какими технологиями они пользуются. В Airbus попытались оценить, при помощи каких технологий летают их самолёты, и были поражены результатам: более 70% – то, чем они фактически не управляют.
Когда мир встречался и говорил, что нужны единые протоколы, глобализация и обмен технологиями, мне стало ещё более очевидно, что страны обсуждают вопрос рисков. И либо нужно тормозить, либо делать что-то новое, но пытаться сохранить технологический суверенитет. То, что мы ушли в импортозамещение, было очень правильно. Во-первых, это развитие нашей экономики. Во-вторых, её ядро, ведь на ближайшее десятилетие нам невозможно быть зависимым от кого-либо. Драйвер экономического развития – это всегда то, что должно быть всё-таки своим.
Вряд ли раньше можно было достигнуть 100-процентного технологического суверенитета. При таком разнообразии технологий дойти до определённого уровня мировых компаний-лидеров, наверное, – задача из области фантастики. Но приближаться к этому было нужно. Поэтому у нас было прописано, что технологический суверенитет является одной из задач развития экосистемы цифровой экономики Российской Федерации. За последние годы это приобрело уже особый характер и статус национального приоритета. Цифровая трансформация и технологический суверенитет – ключевые национальные идеи и векторы развития. Например, в РЖД решают задачу по развитию российского общесистемного программного обеспечения: национальной ERP-системы корпоративного уровня, интегрированного решения для «офисных» сервисов, происходит замещение зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения по управлению инфраструктурой, для моделирования и прогнозирования пассажиропотоков, управления пассажирским комплексом АСУ «Экспресс» нового поколения и др.
Мы в этом плане совершенствуемся. Опираемся на наши научные и инженерные школы, на компетенции. Показательно, что в стране сейчас технологии развиваются быстрее, чем можно было ожидать. Есть определённые трудности в преодолении разрывов, например тех барьеров, которые тормозят этот процесс. Но в целом это правильные вектор и задачи. Я уверена, что все страны пойдут по этому пути, и чем раньше, тем для них лучше.
– А может цифровизация затормозиться из-за человеческого фактора?
– Это правильная мысль, потому что для любой компании это большой риск. Кто-то из сотрудников может что-то недопонять, и это вызовет конфронтацию. Собственно, это классика инновационного менеджмента: когда человек недопонимает, он находится в состоянии неопределённости. Природа человека такова, что он боится неопределённости. И, как правило, если человек этого боится, то входит в конфронтацию с инновациями и технологиями. В этом вопросе поможет только обучение. Часто бывает, что компания быстро трансформируется и не успевает с обучением своих сотрудников. И как раз в последние годы массово встал вопрос, как правильно обучать.
Во-первых, повышать цифровую грамотность и понимание процессов, происходящих в самой корпорации. Во-вторых, сотрудники должны чувствовать, какие изменения могут прийти в их область. Крупные корпорации, как РЖД, «Газпромнефть» и Uber сами создают контент, чтобы их сотрудники могли учиться. Причём этот процесс должен идти непрерывно. Во многих корпорациях, с которыми я работаю, сотрудники параллельно с работой самостоятельно изучают технологии ИИ, цифровизацию и цифровую трансформацию.
– Как вы оцениваете уровень развития цифровых технологий в отрасли железнодорожного транспорта в России?
– По уровню цифровой зрелости РЖД – глобальный лидер. Технологическое ядро бизнес-экосистемы компании формируется на основе разработок в области искусственного интеллекта. Портфель проектов, как я уже говорила, включает более 55 проектов, многие из которых являются настоящим прорывом для нашей страны. Проекты по беспилотному вождению поездов «Ласточка», цифровой двойник инфраструктуры МЦК, сеть квантовых коммуникаций – не полный перечень разработок, обеспечивающих России технологическое лидерство. Приоритетными цифровыми технологиями являются Интернет вещей (IoT), интеллектуальные системы (AI / ML), виртуальная и дополненная реальность (AR / VR), большие данные (Big Data), распределённые реестры (Blockchain), новые технологии передачи данных. Искусственный интеллект применяют в управлении перевозками, эксплуатации и обслуживании подвижного состава и инфраструктуры, в управлении персоналом и охране труда.
Компания идёт правильно, разрабатывая технологии будущего и строя свою метавселенную, чтобы взаимодействовать с пассажирами. А вторая область – это надёжность. Именно она определяет, как работает система управления инфраструктурой или подвижным составом. Мы видим, что квантовая коммуникация – это технологический прорыв для всей нашей страны. И РЖД уже стали лидером на рынке квантовых коммуникаций.
– Каким вам видится будущее цифровой экономики России?
– Приоритетным направлением развития для нашей страны мне видится экономика данных. Данные становятся стратегическим ресурсом. Почему? Потому что они – топливо для искусственного интеллекта, на базе которого идёт активное развитие ключевых технологий. На сегодняшний день Россия входит в четвёрку стран, которые имеют свой генеративный искусственный интеллект. Практически за всеми решениями стоит управление данными. Поэтому это ключевой фокус для нашей страны.
Также большую роль будут играть отраслевые решения на основе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это драйвер компетенций и способностей. Каждой компании придётся наращивать компетенции в области управления такими разработками.
Искусственный интеллект уже может разрабатывать программный код – это сократит время на разработку моделей искусственного интеллекта. Совсем недавно «Сбер» сообщил, что у них ИИ разрабатывает программный код. Это пока ещё не столь очевидно для нас, к этому надо готовиться. Но это наше будущее.
Беседовала Дарья Чикиркина

фото: Сергей Гусев/пресс-служба ОАО «РЖД»
Еще материалы из рубрик: Цифровизация
В один клик
Наталья Чекмарева, начальник сектора социальных сервисов Департамента социального развития ОАО «РЖД»,
Юрий Данилов, заместитель начальника Департамента информатизации ОАО «РЖД» ,
Наталья Чекмарева, начальник сектора социальных сервисов Департамента социального развития ОАО «РЖД»,
Юрий Данилов, заместитель начальника Департамента информатизации ОАО «РЖД» ,
В компании развиваются цифровые сервисы для работников
Рубрики: Цифровизация
Гранты в дело
Отраслевые вузы становятся центрами инновационного транспортного развития
Рубрики: ЦифровизацияРубрики
- Корпоративное управление
- PRO//Движение
- PRO//Движение.1520
- Взаимодействие
- Волонтёрство
- Год экологии
- Город
- Городской транспорт
- Законодательство
- Здравоохранение
- Инновации
- Иностранный опыт
- Инфраструктура
- Кадры
- Клиентоориентированность
- Коллектив
- Команда 2030
- Команда 2050
- Управление персоналом
- Коммуникация
- Корпоративная культура
- Культура труда
- Молодёжная политика
- Наука
- Образ жизни
- Образование
- Обучение
- Окно возможностей
- Оперативка
- Опыт
- От редакции
- Охрана труда
- Пандемия
- Перевозки
- Персонал
- Перспективы
- Подготовка кадров
- Показатели
- Практика
- Производство
- Процессное управление
- Психология
- Развитие
- Революция 4.0
- Ретроспектива
- Рынок труда
- Социальная ответственность
- Стратегия
- Стратегия роста
- Технологии
- Транспорт
- Тренд
- Трудоустройство
- Туризм
- Управление
- Уроки пандемии
- Финансы
- Футуризм
- Цифровизация
- Экология
- Экономика
- Экономика транспорта
- Этика
- Эффективность
- «Зелёные» технологии
- История
- «PRO//Движение.Сибирь»
- PRO//Движение.Каспий
- PRO//Движение.Экспо
- Активная позиция
- Безопасность
- Благополучие
- Вектор развития
- Взаимовыручка
- Взгляд в будущее
- Визит
- Внутренний туризм
- Воспитание
- Восточный полигон
- Восточный экономический форум
- Вот и лето прошло
- Год здоровья
- Дети
- Дискуссия
- Добровольчество
- Железнодорожный съезд
- Железнодорожный туризм
- Забота
- Здоровье
- Импортозамещение
- Инструменты
- Интервью
- Итоги
- Квантовые технологии
- Квантовые коммуникации
- Компетенции
- Контроль
- Логистика
- Люди дела
- Машиностроение
- Медицина
- Международная панорама
- Миссия
- Модернизация
- На полях БРИКС
- Наука и практика
- Новый экономический порядок
- Парламентский час
- Пассажирский комплекс
- ПМЭФ-2023
- Поддержка
- Преемственность
- Производительность труда
- Профстандарты
- РИЛТТРАНС-2023
- Россия в многополярном мире
- Связь поколений
- Сервис
- Социальная инфраструктура
- Социальные гарантии
- Соцполитика
- Спорт
- Стандартизация
- Стресс-тест
- Строительство
- Суверенитет
- Технологическое партнёрство
- Точки роста
- Транспорт России
- Транспортные коридоры
- Фестиваль
- Целеполагание
- Эксплуатация
- Юбилей
Содержание номера
- Железная дорога в миниатюре
- Открыли счёт
- Инженерное начало
- Деньги – не самое важное
- Связанные сетью
- Лариса Лапидус: побеждать будут те, кто быстрее других станет технологически зрелым
- Дорогу осилит идущий
- Тонкие настройки
- Центробежная сила
- Полезные связи
- Контейнеры идут на рекорд
- Главный путь
- Заявка на рекорд
- Оперативка
- Железные традиции
Библиотека Корпоративного университета РЖД
Максим Дорофеев
«Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», серия «МИФ Бизнес» 2023 год
«Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», серия «МИФ Бизнес» 2023 год
Гэвин Кеннеди
«Договориться можно обо всём. Как добиваться максимума в любых переговорах». Издательство «Альпина Паблишер» 2022 год
«Договориться можно обо всём. Как добиваться максимума в любых переговорах». Издательство «Альпина Паблишер» 2022 год
Автором и владельцем сайта WWW.GUDOK.RU © является АО «Издательский дом «Гудок».
Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте Правила использования материалов нашего ресурса
Адрес редакции: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, 38/2, строение 3
Телефоны: (499) 262-15-56, (499) 262-26-53 Реклама: (499) 753-49-53
E-mail: gudok@css-rzd.ru; welcome@gudok.ru
Пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте Правила использования материалов нашего ресурса
Адрес редакции: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, 38/2, строение 3
Телефоны: (499) 262-15-56, (499) 262-26-53 Реклама: (499) 753-49-53
E-mail: gudok@css-rzd.ru; welcome@gudok.ru

 12 / 2024
12 / 2024